Праведница народов мира, спасшая семь человеческих жизней, София ЯРОВАЯ: «29 сентября 41-го года, когда евреев расстреливали, военнопленных из лагеря на улице Керосинной тоже пригнали в Бабий Яр — закапывать тела. Среди них был мой дядя — он говорил, что земля шевелилась...»


Бабий Яр, без сомнения, одна из самых жутких трагедий в истории человечества. В течение двух лет нацистской оккупации Киева, с 1941-го по 1943-й, в этом урочище, по подсчетам разных исследователей, погибло от 70 до 200 тысяч человек. Среди них — цыгане, киевские караимы, пленные красноармейцы... Но большинство тех, кто не вернулся оттуда, — евреи. Только за два дня, 29 и 30 сентября 1941 года, — в Бабьем Яру их расстреляли около 36 тысяч. Выбраться из этого ада удалось лишь 29 человекам.
Говорить с теми, кто волей судьбы стал свидетелем киевского кошмара, неимоверно тяжело. Еще тяжелее, чем смотреть многочисленные документальные картины или художественный, но до боли правдивый фильм «Дамский портной». Каждый рассказ — как неподъемный груз, и, слушая, ты даже не веришь, что кому-то под силу с этим жить...
Корреспондент «Бульвара Гордона» побывала в гостях у спасенных и спасавших.

«Папа чудом не погиб в Дарницком лагере. Когда прозвучала команда: «Евреи и коммунисты, выйти из строя!», товарищ-украинец схватил его за рукав: «Куди?»
— Вот, Анечка, это я в 41-м, как раз перед Бабьим Яром, — киевлянин Василий Михайловский показывает черно-белую фотографию кудрявого мальчонки с большими темными глазами. — Здесь мне почти четыре, я с 37-го года. Видите, что карандашом написано? Цезик Кац. Это мое первое имя — Кац Цезарь Петрович. Маму звали Ципа, она умерла при родах, и, по еврейской традиции, если такое случается, ребенка называют по первой букве имени матери. Кроме меня, в семье был старший брат Павел, отец много времени проводил на работе (заведовал кафе на Крещатике), у бабушки были еще внуки, вот папа и решил взять в дом няню — простую женщину Надю Фомину. Она пришла в Киев с юга Украины, спасаясь от голода, и была очень благодарна за то, что мы ее приютили.
До 22 июня 1941 года детство было, в общем-то, счастливое: нужды мы не знали, жили на Костельной, в самом центре Киева, я еще помню, как брат с соседским мальчишкой бегал далеко от дома вниз по улице, а я плакал, потому что меня с собой не брали, кто же хочет с малышом возиться? А потом папа ушел на войну, отправив нас с бабушкой и Надей в эвакуацию, помню, как на поезд проводил...
— ...но вы не уехали?
— Почему? Из Киева выехали, но на каком-то полустанке наш эшелон задержали: тогда в первую очередь не людей в безопасное место отправляли, а оборудование с заводов, чтобы ни в коем случае не досталось врагу... Сидели мы там неделю, продукты кончились, есть было нечего, и бабушка отправила Надю в Киев за припасами: она же не знала, где линия фронта проходит. Та поехала, взяв с собой меня, а когда мы вернулись обратно, на ту станцию, то не застали ни бабушки, ни Павлика: пока нас не было, эшелон с людьми ушел. Спустя годы я узнал: родные добрались до Москвы, их приютил наш дядя-музыкант, он вырастил Павлика как своего сына. Ну а нам с Надей, вернее, Наде со мной — куда? Назад, в Киев.
Отца я увидел, еще не понимая, что вижу его в последний раз, 28 сентября. Ему удалось бежать из колонны военнопленных, когда их переводили из Дарницкого лагеря на Керосинную. Он был измучен, изможден, по дороге упал, и конвоир, видимо, не заметил его. Если бы заметил — расстрелял на месте...
Папа, кстати, чудом избежал гибели в Дарницком лагере. Когда прозвучала команда: «Евреи и коммунисты, выйти из строя!», двинулся было выходить, но товарищ-украинец схватил за рукав: «Куди?». Почувствовал, что ожидает тех, кто сделает шаг вперед...
Освободившись, отец, ясное дело, отправился домой — помыться, переодеться. И очень удивился, когда застал там нас с Надей. Наша последняя встреча была короткой: явилась дворничиха, привела двух полицаев...
— Проявила бдительность...
— Ну, их ведь заставляли — дворников, управдомов. Они должны были составить списки евреев, сообщать в комендатуру. Только одни сообщали, а другие и прятали, и помогали прятать. Наша не из таких. Как говорится, в каждом роду по сукиному сыну... Отец полицаям не дался — выскочил через черный ход. Но там его, видимо, тоже ждали, потому что с тех пор о нем не было ни слуху ни духу. Если сразу не застрелили, то отправили в Бабий Яр на следующий день.
Дворничиха, уходя, сказала Наде: «Жиденка завтра в Бабий Яр веди!». И рано утром моя няня, собрав кое-какие пожитки, пошла со мной...
— ...на верную смерть...
— ...а нам так и сказала Надина знакомая: «Сама на смерть идешь и ребенка тащишь!», но кто тогда об этом думал? Евреи не верили, что немцы причинят им зло: старики помнили, как в гражданскую войну они защищали их от погромов. Но это были уже совершенно другие немцы... А пресса наша не писала ни о Бердичеве, где уже были массовые расстрелы еврейского населения, ни о Виннице, откуда людям было знать, что их ждет? Это к советской власти вопрос — почему по радио все время говорили, мол, Сталин сказал, что Киев не сдадут и что враг не перейдет Днепр? Почему, зная, что вытворяли с евреями в соседней Польше, те, от кого многое зависело в Союзе, не позаботились об эвакуации еврейского населения? Уехали ведь только те, кто имел возможность уехать...
«Я просил няню купить воздушный шарик и флажок — мне казалось, мы идем на парад, как в Первомай...»
— С каким настроением шли люди в колонне, помните?
— Мы шли от площади Калинина (нынешнего Майдана Незалежности) по Малой Житомирской в сторону Лукьяновки. Все были радостные в основном. Говорили, что переселяемся в Палестину. Некоторые, правда, думали, что все-таки в какое-то гетто, но что на расстрел — никто не подозревал. Люди шли целыми не то что семьями — родами, по 20-30 человек! Старики, молодые, малые дети...
Я устал, капризничал, хныкал, и Надя подсадила меня на чью-то подводу с вещами — там лежали детские игрушки, какие-то куклы, которые меня заинтересовали. Но когда я к ним потянулся, няня напомнила: трогать чужое без спроса нельзя, некрасиво.

Я просил Надю купить воздушный шарик и флажок — мне казалось, мы идем на парад, как в Первомай, а я же помнил, что в праздничные дни папа обязательно покупал нам с Павликом флажки, шарики, пряники... Но ни флажков, ни чего-то другого в этом роде по пути не продавали. Я сидел, рассматривал кукол... Потом рассказал об этом эпизоде Илье Левитасу, основоположнику еврейского движения в Украине, и мое воспоминание стало идеей для памятника детям, погибшим в Бабьем Яру: сломанные куклы. Сломанное детство...
Тревога появилась, уже когда мы были на Мельникова. Там был КПП. Слышались крики, стоны, детский плач, люди забились, заметались, а вдоль дороги стояло оцепление — эсэсовцы, полицаи. С приспущенных поводков рвались огромные овчарки — они мне потом часто снились, большие страшные собаки, которых натравливали на беззащитных людей...
Во всеобщей давке мы с Надей упали на противотанковый еж, я разбил голову — шрам остался на всю жизнь. По счастью, Надю кто-то поднял за шиворот и толкнул — вместе со мной, в толпу, стоявшую вдоль дороги: «Нечего тебе там делать!». Наверное, увидели паспорт, что она не еврейка. У нее был при себе документ.
— Куда же вы пошли?
— Домой нельзя: дворничиха тут же сдала бы. Мыкались по няниным подругам: то кусочек хлеба дадут, то луковицу, то картофелину... Пришлось даже на развалинах ЦУМа ночевать. А потом кто-то подсказал Наде, что на Предславинской есть приют для бездомных детей. Она нацарапала на бумажке: «Вася Фомин», дала ее мне и отвела туда. А сама спряталась и наблюдала: возьмут, не возьмут?
Главврачом в этом детском доме была молодой доктор Нина Никитична Гудкова. Увидев меня, она сразу сообразила, что ей привели еврейского ребенка, и обрила меня налысо — чтоб кудри не выдавали. Я там не один такой был, и когда шли облавы, нас, еврейских ребятишек, прятали в бельевой, под лестницей. Мы должны были сидеть там тихонько, как мышата, и не издавать ни звука.
Голод был жуткий! В первый год много детей умерло. И знаете, Аня, я именно в детдоме впервые почувствовал, что такое горе. Не ощущал еще, не понимал, что сирота. По-настоящему больно стало, когда умерла девочка Людочка: она была очень слабенькая, настолько, что не вставала с постели, и нянечки поручили мне давать ей попить. Я дежурил возле нее очень ответственно, несмотря на то что сам еле стоял на ногах: привязался к ней. А однажды подошел к кроватке, а девочки нет! «Где Людочка?» — спрашиваю. «Нету», — сказала Нина Никитична. И мне показалось, что что-то во мне оборвалось...
— Знаю, из детдома вас забрали приемные родители...
— Прежде чем это случилось, намучился и я, и со мной: я был хилым, больным, полон живот воды, слабое сердце... Гадкий утенок. Ну, другие, в общем-то, не намного лучше: детдомовцы есть детдомовцы. Снабжения особого не было, потому что наше заведение шло не по линии просвещения, а по линии здравоохранения, считалось, что больным детям ничего уже не надо, кто выживет, тот выживет... Чуть легче стало, когда Нина Никитична каким-то образом прорвалась к жене бургомистра, и та сжалилась — уговорила мужа разрешить старшим детям из наших собирать объедки возле ресторана «Театральный». Вот тогда-то мы зажили! (Улыбается).
А на Печерске, в Боенском переулке, бойня была — там забивали скот. И вот когда рабочие с бойни узнали, что на Предславинской мрут от голода дети, они взяли над нами шефство своеобразное — раз в неделю приносили ведро крови, на дне которого лежали субпродукты.
Усыновлять меня никто не хотел: постепенно детей стали разбирать, а я так и оставался в детдоме. Помню, ходил и целый день донимал санитарку вопросом: «Ну когда меня заберут?». Она отмахнулась: «А я знаю? Завтра!». Я поверил и начал дежурить под кабинетом главврача — ждал.
На следующий день у Нины Никитичны были посетители — Василий Иванович и Берта Савельевна Михайловские. Они пришли за девочкой, как я потом узнал. Но взяли мальчика — меня. Я подумал, что вот это они и есть, те люди, которые должны за мной, как санитарка обещала, прийти, и бросился к ним: «Папочка, мамочка! Это я, ваш сыночек!». Так я стал Васей Михайловским.
«Мой приемный отец-врач прятал жену-еврейку в морге. Представляете, к мертвым клал, чтобы осталась в живых...»
— Ваш приемный отец в списке Праведников народов мира...
— ...и не только он: в моей семье пятеро праведников! Надя Фомина, Нина Никитична, Василий Иванович, а также вдова его брата, замученного в ГУЛАГе, Марта и ее дочь Маруся. Марта Федоровна с дочкой во время оккупации прятали еврейского парня и помогали моему приемному отцу и приемной маме. Мама Берта ведь еврейкой была. Вот посмотрите, это они, мои родители, и с ними я, уже меньше на беспризорника похож: Василий Иванович, врач от Бога, выходил меня.
Мой собеседник показывает еще одно фото — семейный портрет. Солидный мужчина, красавица-брюнетка и большеглазый пацаненок. Все трое улыбаются. Снимок послевоенный, и по нему трудно догадаться, какой кошмар пережили эти люди.
— Василий Иванович Михайловский спасал от фашистов не только жену, но и тещу, — продолжает Василий Васильевич. — Бабушка Песя изначально была против, чтобы ее дочь Берта выходила за нееврея, но зять покорил ее тем, что выучил идиш, только чтоб общаться с тещей, а потом еще и вылечил от серьезной болезни. Он был очень талантливым доктором: по специальности акушер-гинеколог, но в военное время брался за любые операции, даже трепанацию черепа успешно делал!

Михайловский, сын священника, до войны сам едва ли не прятался — от НКВД. Приедет в какую-то захудалую больницу, начнет ее поднимать, а как только узнает, что им заинтересовалась госбезопасность, срывается с места и едет дальше. Троих его братьев сгноили в ГУЛАГе: было чего бояться...
А в войну пришла другая беда — фашисты. Мама Берта жила по документам на имя Михайловской Веры Самойловны, но разве кто спросит те документы? «Юде» — и все! От полицаев папа прятал маму в морге, а бабушку — в тифозном отделении. Там, куда точно не пойдут искать. Представляете, в морг, к мертвым, жену клал, чтобы осталась в живых?
До приезда в Киев Михайловские жили в Кировограде, и в их доме квартировал немецкий врач. Однажды он пришел к папе с изрядно выпившим немецким офицером — после очередной экзекуции, казни евреев. Мамы, по счастью, дома не было, а бабушка притихла в другой комнате. Офицер, раздухарившись, достал револьвер, приставил к папиному лбу: «Юде?!». — «Найн, найн!» — закричал немец-врач. Тот подождал с минуту, спрятал оружие и вышел. После этого папа зашел к бабушке — посмотреть, как она. Она глянула на него и спросила: «Васенька, где же ты так запачкался? У тебя на волосах мука». А потом догадалась: «Сынок, ты же весь седой!».

И второй расскажу случай: шел папа вечером по Кировограду, а навстречу санитарка из его больницы, с немцем под руку. «Юде!» — хохочет и на папу пальцем показывает. Немец подошел, ка-а-ак врезал ему — половину зубов выбил! А потом затащил за угол: «Снимай штаны!». Посмотрел, что не обрезан, — отпустил...
Благодаря папе выжил я, благодаря его мужеству, выдержке и смекалке спаслись приемная мама и бабушка. Поэтому менять фамилию на свою настоящую я не стал — так и остался Михайловским. Мой брат-москвич нашел меня, когда мы были уже взрослыми, и знакомые не перестают удивляться: единокровные и единоутробные братья, но один Павел Петрович Кац, а другой Василий Васильевич Михайловский...
Хотя у нас в организации (Василий Васильевич — зампредседателя Всеукраинской ассоциации евреев-бывших узников гетто и концлагерей. — Авт.) были люди из Бабьего Яра с еще более удивительными судьбами. Например, Людмила Ткач, которая угодила в яму вместе со своей мамой, и обе остались живы: упали в промежутке между автоматными очередями. Лежали под трупами, пока не стемнело, а потом выбрались. Была легендарная Дина Проничева — героиня романа Анатолия Кузнецова «Бабий Яр». Она попала в эту мясорубку дважды, вы представляете? И дважды спаслась! Еще одна женщина упала в яму с ребенком — сама выжила, но задушила малыша своим телом... Разные судьбы есть...
— Василий Васильевич, о чем вы думаете, проходя мимо Бабьего Яра?
— О многом. Прежде всего, что там лежат дети. Они могли стать выдающимися учеными, художниками, музыкантами, архитекторами... Да просто порядочными людьми. О невинно убиенных думаю, одним из которых я чуть не стал. О тех, кто спасал таких, как я. Вот меня спрашивают, почему в Украине столько жертв среди еврейского населения, а по количеству праведников народов мира мы только на четвертом месте в мире. Вы знаете, не потому, что мало кто спасал. Потому что об этом слишком долго молчали. И домолчались до того, что уже практически некому рассказывать и некого искать...
«Людей били, травили собаками, разделяли семьи: женщин и детей волокли в одну сторону, мужчин — в другую...»
С хореографом Раисой Майстренко, которая в свои 78 успешно руководит Ансамблем танца «Оболонь» (известным детским коллективом, которому 32 года и который имеет звание народного), договариваемся встретиться у нее на работе — в Центре детского творчества возле метро «Минская». «Приходите, — приглашает Раиса Вадимовна, — заодно, может, и танец вам покажем — «Бабий Яр. Детство». Его уже снимало телевидение — наше, белорусское, российское, немецкое. У меня к немцам ненависти нет: они до сих пор каются. Нас, пострадавших, материально поддерживают. 200 евро в месяц — для украинского пенсионера существенная помощь. Были б мы нашему государству так интересны, как немцам...».
— Номер про Бабий Яр я давно поставила, — рассказывает Раиса Майстренко. — А вдохновила менора — еврейский семисвечник. Я, когда его увидела, поняла: надо деток в форме меноры выстроить... Всех воспитанников вожу в Бабий Яр и рассказываю, что там произошло. Я всю жизнь об этом рассказываю, и раньше, выступая на митингах, собраниях, встречах, говорила: «Наверное, Бог оставил меня в живых, чтобы я рассказывала людям о Бабьем Яре. Чтобы это никогда не повторилось». А теперь, когда весь этот кошмар на Донбассе полным ходом, что толку рассказывать? Кто меня станет слушать? Одна страна должна быть, одна! Нет, взяли — разорвали... Там не АТО, там война, поверьте, что такое война, я знаю! И Бабий Яр к нам сейчас ближе, чем хотелось бы...
Что для меня Бабий Яр? Одним словом могу сказать — ужас. Я еврейка по маме, украинка по отцу. Папа — Лымарев Вадим (Майстренко — это моего мужа фамилия), мама — Циля Ковкина. Ее за моего папу не хотели отдавать. Во-первых, потому что не был евреем, во-вторых, он уже был женат, первая супруга умерла от чахотки, оставив крошечного сына Валика. А тут, через месяц всего, новая свадьба... Но мама не послушала, вышла замуж, родилась я.
Когда война началась, отец ушел на фронт. Мы с мамой и братиком жили в доме 131 по улице Саксаганского с дедом Петей и бабушкой Таней. Еврейские дед с бабкой к нам не наведывались — в первый и последний раз я увидела их 29 сентября 1941 года.

Дедушка Меер и вся еврейская родня, душ 18-20, приехали к украинским дедушке и бабушке на груженой вещами и продуктовым запасом подводе: «Мы за Цилей и Раечкой. Нас отсылают в Палестину». Баба Таня в слезы, дед Петя в крик: «Не пущу! Нечего им там делать, Циля — моего сына жена, какая Палестина? Не отдам ни невестку, ни внучку!». Но Меер не сдавался: «Тут война, им там лучше будет!». Мама подумала — и согласилась: «Мы и Валика заберем...». В конце концов, договорились так: Циля и Рая — в Палестину сейчас, а Валика отвезут уже потом, когда мы там устроимся.
Бабушка Таня пошла провожать: «Ой, да где ж она, та Палестина? Как туда добираться? Когда еще увидимся?». Вместе с нами шла целая колонна евреев, они катили тачки, волокли чемоданы, тянули узлы, несли на руках грудничков...
Первая остановка была возле стадиона «Старт» недалеко от Лукьяновки. Мне хотелось есть, и я крутилась возле чьих-то банок с вареньем, стоявших на земле. До сих пор помню эти банки с чем-то наверняка вкусным и сладким, с горлышками, аккуратно завязанными белыми тряпочками... А потом вся колонна как-то странно зашумела, заволновалась: по дороге мимо нас солдаты вели группу людей в одном белье, запачканном кровью. Это были пожилые мужчины, бородатые и седые.
Одна из женщин, стоявших рядом с нами, бросилась к колонне, обняла старика: «Отец!». Фашисты стали буквально отдирать ее от него, оттаскивать... Некоторые из наших даже одобрили это: мол, чего ты лезешь, стой. Моя бабушка Таня возмутилась: «Что вы за люди? Может, они видятся в последний раз?». Позже я узнала: эти «белые дедушки» были киевскими раввинами. И в отличие от остальных, избитые, раздетые, униженные, они знали: никакая Палестина никому не светит...
А на улице Керосинной, ближе к кладбищу, уже стояли противотанковые ежи, полицаи... Людей били, травили собаками, разделяли семьи: женщин и детей волокли в одну сторону, мужчин — в другую... Я плохо помню подробности, маленькая была, трехлетка. А может, это оттого, что сработала защита внутренняя, в голове?
Спасла меня бабушка Таня. Как схватила на руки, еще по дороге, так и не отпускала. Одной рукой прижимала меня к себе, другой вытащила из кармана паспорт, стала им креститься: «Смотрите, я русская! Рус-ска-я!». Это услышал полицай, украинец: «Ану мовчи! Тут всі жиди!» — и замахнулся прикладом. Целился мне в голову, и если бы бабушка не подставила свое плечо, точно бы ее разможжил — такой силы удар был. Мы, как сноп, рухнули на землю, бабушка твердила, будто в бреду, одно-единственное слово: «Русская, русская...». Немец в черной форме заметил и спросил у полицая: «Юде?». Тот, правда, плечами пожал: «Каже, руська». Тогда немец схватил бабушку за шиворот и швырнул в толпу: «Пшла!». И она, со мною на руках, побежала, крестясь и не разбирая дороги.
Люди расступались, пропуская нас, а кто-то толкнул к нам девочку лет 12. Потом, в районе Евбаза, она от нас отстала — сказала, что к тете пойдет. Мы больше ее не видели.
Придя домой, бабушка хотела меня в дом занести, но трое суток не могла это сделать: я кричала как резаная! Так она сидела во дворе, с перебитым плечом, со мной на руках... Потом рассказывала: ей казалось, где-то в это время мучительно умирала моя мама Циля. Только баба Таня с места — я в крик...
«Самое сильное воспоминание детства — как фашисты взорвали хлебозавод. Тесто — прокисшее, с песком, но все же тесто! — текло по улицам, и люди старались набрать его в миску, чайник, хоть во что-нибудь...»
— Где же вас прятали, Раиса Вадимовна?
— В подвале. Дворник Петр Иваныч, спасибо ему, предупреждал, когда будут облавы, и мы со вторым моим дедом, Акимом, лезли в темный подвал, сидели там за кучами битого стекла и кирпича. Немцы ж в подвал не заходили. Если слышали шум, сразу гранату бросали или из автомата палили. Больше всего я боялась, чтоб дедушка Аким не закричал — он душевнобольной, из Павловки. Его не расстреляли лишь потому, что в день, когда уничтожали пациентов этой больницы, он к нам помыться пришел, а обратно мы его не пустили.
Как выжили, не знаю. Сказать, что голод был, — ничего не сказать. Если в доме была горсть муки, это уже праздник: мы с братом радовались, что будем коржики жевать. На воде, без масла, запивая кипятком вместо чая... А самое сильное воспоминание детства — как фашисты взорвали хлебозавод. Тесто — прокисшее, с песком, но все же тесто! — текло по улицам, и люди старались набрать его в миску, чайник, да хоть во что-нибудь. У бабушкиной сестры, бабы Фроси, под рукой ничего не было, поэтому она сняла с себя трико, завязала снизу — и стала собирать в него тесто, как в мешок. Вот это были коржики! Вкуснее я, наверное, ничего не ела...
Баба Таня окрестила меня и строго-настрого приказала: «Никому не говори, что мама еврейка!». Со временем я даже в садик ходила — возле железной дороги. Светленькая была, и глаза светлые. Сразу и не скажешь, что «юде». Боялись только, как бы кто не донес.
— Как освобждали Киев, помните?
— Конечно. Немцы всех из Киева вывозили — хотели оставить мертвый город. А дворник закрыл изнутри ворота на амбарный замок, никого во двор не впустил. Наутро встали, на улицу вышли — танк стоит советский, и танкист в люке. Спрашивает у бабушки: «Не знаете, как проехать на Сталинку?». — «Знаю!» — бабушка стала ему объяснять. Он поблагодарил, потом посмотрел на меня и сказал: «Дайте ребенка подержать!». Взял меня на руки, щекой небритой прижался, а я вырываюсь: колючий, еще и слезы горячие текут...
Вот такие отрывки из детства у меня в памяти. Еще врезалось навсегда, как во время оккупации немцы вели пленных матросов из Днепровской флотилии. Это возле площади Победы было, мы с братом стояли, смотрели, а эти матросы нагибались, выдирали голыми руками брусчатку — и бросали в своих конвоиров. И кричали, что сдаваться не надо. И не надо! Что бы ни случилось.
«Полицаи не могли вырвать из рук молодой еврейки грудного ребенка. В конце концов, один, здоровый, выхватил малыша, взял за ножку, раскрутил и кинул в яму, как тряпичную куклу...»
Софии Яровой, председателю киевской Ассоциации Праведников народов мира и Бабьего Яра, 91 год. Почетного звания «Праведник народов мира» София Григорьевна была удостоена после того, как вместе с мамой Ефросиньей спасла две еврейские семьи. Семь человеческих жизней.
— Только не надо делать из меня героя, — отмахивается София Григорьевна, — лучше бы написали о том, какой я учитель. Или каким директором школы была! А то, что мы сделали, не подвиг — это нормальная реакция нормального человека. Многие помогали...
Очевидцем того, что происходило в Бабьем Яру, был мой родной дядя Петр Хоменко. Он воевал, попал в плен и содержался в лагере для военнопленных на улице Керосинной (сейчас Шолуденко). Так вот, 29 сентября, когда евреев расстреливали, заключенных из этого лагеря тоже пригнали в Бабий Яр — закапывать тела. Дядя потом говорил, что земля шевелилась: людей живыми засыпали!
До конца своих дней не мог забыть, как полицаи вырывали из рук молодой еврейки грудного ребенка. В конце концов, один, здоровый, выхватил малыша, взял за ножку, раскрутил и кинул в яму, как тряпичную куклу. Обезумевшая мать кричала так, как люди не кричат... Но самое страшное, что дядя нам рассказывал, — то, что с его стороны урочища стреляли не немцы! «Говорили они по-нашему, — вспоминал он, — но как-то так, будто не отсюда, не с Киевщины. Скорее всего, это были эсэсовцы с Западной Украины».
В конце дня, когда пленных вернули в лагерь, дядя Петя нашел консервную банку и распорол себе ногу — чтобы больше его в Бабий Яр не брали. «Лучше, — решил, — от гангрены тут сдохну, чем буду видеть этот ад!». (Плачет). Видите, Аня, из года в год людям о тех днях рассказываю, и каждый раз слезы...
У нас во дворе, на Красноармейской, 127, жил паренек-еврей. Родители успели эвакуироваться, а он нет: учился в Харькове, пока доехал до Киева, в общем, задержался... У него был ДЦП, в армию такого не взяли. Знаете, как он обрадовался, когда увидел это объявление: «Все жиды города Киева...»? Собирался, прощался: «До свиданья, Соня! Еду в Палестину — может, там меня вылечат и я стану таким, как все...».
А в том дворе, где жили мой дядя Петр и его жена Галина, на улице Горького, жила Соня Пикман с двумя детьми — маленькими Верой и Нелей. Муж у Сони был украинец, ушел на фронт. Сама она — типичная еврейка, а детки светленькие, голубоглазые — обычные славянские девочки с виду.
Соня не могла ходить по селам, менять вещи на снедь, так как детей не с кем было оставить, и все ее жалели: то яблочек принесут, то яиц, то муки, то коржиков каких испекут... 29 сентября Соня в Бабий Яр не пошла: видно, сердце почуяло беду. Но управдомша ее сдала — пришла с полицаями: «Собирайся, жидовка!». И повела в комендатуру.
А дальше было вот что. Пришли они — на крыльце стоит немец, дежурит. Управдомша отчиталась: «Я вам юде привела!». Он посмотрел на Соню, потом на деток... А потом резко развернул управдомшу и ка-а-ак дал ей под зад пинка! Аж носом в землю зарылась. А Соне сказал: «А ты, матка, вэк домой!».
Побежала наша Соня с детьми, но куда бежать? Управдомша не сегодня, так завтра снова сдаст. Пришла к моей маме за советом — вернее, тетя Галя привела. А мама моя, хоть и неграмотная и в наймах всю жизнь прослужила, умнейшая женщина была — тут же нашла решение. «Значит, так, — говорит, — ты, Соня, и ты, Галя, идете со мной к коменданту. Галя, ты ж детдомовская у нас? Будешь свидетелем, что Соня росла с тобой в одном детском доме и всегда украинкой считалась».
Мне мама приказала сидеть дома с Сониными девчатами, а мой младший брат Сашка должен был спрятаться у комендатуры и ждать, чем дело кончится. Если не выгорит, бежать стремглав ко мне и уже со мной и малышней спасаться...
Уж не знаю, чем они там клялись, но получила Соня справку, что она не еврейка. Мама говорила, рядом с комендантом сидел полицай, из местных, который прекрасно знал, кто такая Соня Пикман, но лишь улыбался и не сказал ни слова. Везде были люди...

А вторая семья — Липницкие. Сема, сосед наш, мясник, ушел на фронт, а жена его, сварливая и боевая Танька Рыжая, эвакуировалась с двумя детьми — Маечкой и крошечным Аликом. Кто побогаче был из евреев и связи имел, те могли еще спастись, а вот беднота... У Таньки сестра была, Лиза. Муж ее почтальоном работал — кому он, почтальон, нужен, вывозить его из Киева? Пошли с детками в Бабий Яр... А Танька выехала. Но не надолго. В России попала в такую же мясорубку, как тут, чудом спаслась! И пешком, с двумя детьми, побрела в Киев: по дороге ей цыганка нагадала, что муж живой и в Киеве, и так оно и было! Мы прятали Сему одну ночь, а потом он вернулся на фронт — в 44-м мы узнали о том, что Семен Липницкий погиб в бою...
И вот приходит к моей маме мама подружки моей, Галочки Вайнтроп, и говорит: «Бойчиха (наша фамилия Бойко была. — С. Я.), у меня Танька Рыжая. Что делать?». Пошли мы с мамой к ним, понесли деруны — Маечка Липницкая говорила потом, что ничего вкуснее не пробовала. Посидели, обмозговали... Решили, что Танька пока посидит у Вайнтропов, а потом мы ее отправим к родне, в село Рославичи. Но среди ночи, после комендантского часа, Липницкие вынуждены были бежать к нам во двор. К Вайнтропихе пришел зять-полицай, увидел «гостей» и сказал: «Тетя Таня, я не выдам вас, но за укрывательство евреев расстреливают целые семьи. Я не хочу, чтоб моя семья погибла».
Так Танька и дети оказались в сарае в нашем дворе. Маленький Алик плакал, и мать зажимала ему рот рукой — чтоб не слышали соседи, у которых обретались немцы. Майя Липницкая вспоминала: «Я говорила: «Что ты делаешь, мама? Братик же задохнется!». А она отвечала: «Зато хоть ты будешь жива...». Представляете, что чувствовала мать, перед которой стоял такой выбор?
Это правильно, что о Бабьем Яре говорят и пишут. Но еще правильнее было бы, чтобы в Киеве наконец появился музей Холокоста и всех этих людей, все эти истории мы вспоминали не только в годовщину. Не отмечать это надо, и не, прости Господи, праздновать, как говорят некоторые, — просто помнить...

 Праведница народов мира, спасшая семь человеческих жизней, София ЯРОВАЯ: «29 сентября 41-го года, когда евреев расстреливали, военнопленных из лагеря на улице Керосинной тоже пригнали в Бабий Яр — закапывать тела. Среди них был мой дядя — он говорил, что земля шевелилась...»
Праведница народов мира, спасшая семь человеческих жизней, София ЯРОВАЯ: «29 сентября 41-го года, когда евреев расстреливали, военнопленных из лагеря на улице Керосинной тоже пригнали в Бабий Яр — закапывать тела. Среди них был мой дядя — он говорил, что земля шевелилась...» Надежда САВЧЕНКО: «Когда в российской тюрьме сидела, их «документальные фэнтэзи», в том числе про Юлию Тимошенко, смотрела и думала: «А когда обо мне такое покажут?»
Надежда САВЧЕНКО: «Когда в российской тюрьме сидела, их «документальные фэнтэзи», в том числе про Юлию Тимошенко, смотрела и думала: «А когда обо мне такое покажут?» Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана АЛЕКСИЕВИЧ: «Коммунисты впервые утопию реальностью сделали, и почему это — красивая ведь мечта! — огромной братской могилой закончилось? Миллионы людей положили, и я вот понять хотела, почему страдания, которые на долю наших народов выпали, в свободу не конвертировались»
Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана АЛЕКСИЕВИЧ: «Коммунисты впервые утопию реальностью сделали, и почему это — красивая ведь мечта! — огромной братской могилой закончилось? Миллионы людей положили, и я вот понять хотела, почему страдания, которые на долю наших народов выпали, в свободу не конвертировались» Командир «Торнадо» Руслан ОНИЩЕНКО: «СБУ и военная прокуратура «вели» Пугачева и тупо подставили патрульных»
Командир «Торнадо» Руслан ОНИЩЕНКО: «СБУ и военная прокуратура «вели» Пугачева и тупо подставили патрульных»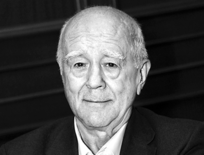 Метание понтов
Метание понтов Шимон ПЕРЕС: «Друзья, у вас есть гораздо больше, чем вы думаете, гораздо больше, чем земля может вам предложить. Ваше молодое поколение великолепно, не будьте ленивы!»
Шимон ПЕРЕС: «Друзья, у вас есть гораздо больше, чем вы думаете, гораздо больше, чем земля может вам предложить. Ваше молодое поколение великолепно, не будьте ленивы!» Двое из ларца: самые известные близнецы
Двое из ларца: самые известные близнецы Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк
Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз
Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз Родом из детства: звезды тогда и сейчас
Родом из детства: звезды тогда и сейчас Делу время, потехе час. Хобби звезд
Делу время, потехе час. Хобби звезд







 Звезда "50 оттенков серого" показала грудь
Звезда "50 оттенков серого" показала грудь Без комплексов. Lady Gaga показала белье
Без комплексов. Lady Gaga показала белье Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой
Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой Наталья Королева выставила грудь напоказ
Наталья Королева выставила грудь напоказ 18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь
18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?
Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?  Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги
Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги Джейн Биркин помирилась с Hermès
Джейн Биркин помирилась с Hermès Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги
Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги